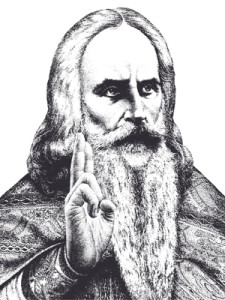Надпись на иконе Прибавление Ума как пророчество
Продолжим об иконе Прибавление Ума, о каноне письма ее, как заповедан он был русскими философами (именем таким называли на Руси богомазов – иконописцев). А заповедан он был таким именно потому, что ведь сама Богородица преподала кон этой своей иконы ее писателю первому – благочестивому человеку, коего беличья кисть и явила впервые образ Матерь Божия Прибавление Ума.
О таком элементе кона как АРКА должно сказать поподробнее. Что символизирует арка, которая на самом верху и, таким образом, осеняет Лик?
А также и насчет ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАДА БОЖИЯ сказать надо, что распростер свои стены в самом почти низу, то есть под херувимом.
Но прежде да будет сказано насчет находящегося совсем внизу, то есть под изображением Града Иерусалим, то есть о канонической надписи на иконе Прибавление Ума: «Изображение Пресвятые Богородицы прибавлением к житию судити живых и мертвых от смертного оубийства защищает, от тлетворных ветров, от озноба, от трясавицы, от находа зверей ядовитых, от врагов и мшиц, и комаров».
Итак, сие начертание суть ПРОРОЧЕСТВО. Произреченное самой Богородицей. Исполнившееся.
Никто еще не рассказывал об этой надписи в таком смысле. Даже из числа посвященных Русской Северной Традиции, не говоря уж о прочих авторах.
Дабы уразуметь каким образом эта надпись, на первый взгляд представляющая собой бессмыслицу, есть пророчество – вспомним: когда икона была написана? Во времена непосредственно после Никона. Патриарха, реформа-ересь которого положила начало расколу на Руси. Расколу на никониан и на тех, кто нововведения Никоновы не принял. И вот О СТАРООБРЯДЦАХ, не променявших заповеди отцов и дедов на нововведения, многосоставное сие пророчество Богородицы.
1. «Изображение Пресвятые Богородицы прибавлением к житию…» Да уж, испытание церковным расколом действительно суть прибавление – трагическое – к житию Богородицы. Ибо Богородица это церковь. О церкви, как о Невесте Бога, сказано в Откровении Иоанна. Об этом и поговорка «кому церковь не Мать тому и Бог не Отец». Это про шибко умных, которые на воцерковленных свысока смотрят. Но и обратное верно: кому Бог не Отец тому и церковь не Мать. Хоть в обрядоверчестве да в батюшкопоклонстве лоб разбей, а к Богу ближе не станешь, ежели не желаешь тайны самого Бога постигнуть под предлогом недерзновения. Поэтому и старообрядцы есть не обрядоверцы, а староверы.
2. «…судити живых и мертвых…» Изречено Христом: Я не сужу ни живых ни мертвых, но слово Мое будет судить. Слушающий слово Мое на суд не приходит, а не слушающий уже осужден. И вот никониане, вместо того чтобы слушать Слово, как передано отцами от дедов и прадедов, начали — не слушая — переписывать по образцам таким греческим, которые сочинены чуть ли ни вчера и уж явно не от ума большого. Верно сказано у Ивана Басаргина: «Можно ли верить в те книги, которые правил Никон с брандохлыстом Арсентием Греком. Ведь «Грек»-то этот поначалу был иудеем, потом католиком, магометанином, польским униатом, прикинулся у нас православным греком, но был опознан и заточен. Однако пришел Никон, выволок этого прощелыгу, дал ему стило «править» книги!.. Никон всё взъерошил и похерил!.. Папа римский Петр Гунливый всю Италию возмутил, а Никон — всю Россию.»[1] Богородица-Церковь преодолеет раскол и рассудит мертвых (пращуров наших) и живых, отступивших от завещанного ими обряда.
3. Далее велела Богородица написать так: «…от смертного оубийства защищает…». Ибо поначалу ведь самые лютые из никониан вознамерились изобразить нечто вроде католической инквизиции. Но вот уберегла Богородица многих от лап убийц. И еще даже до написания той иконы произошла защита Ею от убийства великого праведника протопопа Аввакума. (Которому повелел учитель его и духовник писать собственное житие, из коего сие чудо ведомо. Почти невиданный случай, кстати, повеление писать свое собственное житие. Ну разве что вот потом такое же было дано и монаху Авелю, который предсказал «жидовское иго» и учитель его счел важным, чтобы сие зафиксировано было немедленно. А то ведь аки мурыжили Авеля сего по камерам одиночным глупые чиновники. Там у него не могло возникнуть учеников, которые бы житие написали.) Злой воевода стрелял в упор в протопопа Аввакума из — как пишет не сведущий в деле военном протопоп сей – «двух маленьких пищалей, в каждой руке держомых». То есть это были пистоли. Правда, не совсем несведущ был протопоп, ведь правильно называет, что замки-то колесцовые были, тут же и прибавляя, что такие «не врут», осечки, то есть, не дают. Но совершилось от Богородицы чудо: ни один из двух этих безотказных пистолей не выстрелил. Причем тогда воевода — со злости — аж палец откусил протопопу! А на следующий день каялся. Хочу, говорит, чтобы царь наш Византией владел, а мне молвили, что возможно станет сие только если перейдем на новый обряд, а ты, старец Аввакум, не пущаешь… А потому не пущаю, ответствовал Аввакум, что сказано в Евангелии: не только лишь Византию, а «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф 16:26). Чтобы не повредил царь душе своей – не пущаю, как его верный.
4. «…от тлетворных ветров…» То есть уходили старообрядцы в леса. Села и города покидали. А с ними ведь уходила и благодать. И потому в покинутых этих городах чума начиналась. И вот ее-то тогда и называли ветры тлетворные. И вспыхивала не раз. И лишь смягчением строгостей против старообрядцев останавливали чуму. Особенно же ярко заметно было сие при Екатерине.
5. «…от озноба, от трясавицы…» Похоже на заклинание Василия Великого против бесов. Однако более здесь приходит на ум то странствие, героическое, которое предприняли старообрядцы, не усидев у Денисовых, во времена Петровы. Хоть и уступал старообрядцам этот царь многое, но повелел им Бог: пусть будет и еще много скитов по другим рекам. И вот отправились: «Как только тронулись льды на Выг-реке, спустились на щельях и кочах в Онежскую губу, а уж оттуда – в Студеное море. Дорогу-то до Обской губы хорошо знали… А лето в Полуношных странах короткое. Едва успели добраться до Мангазеи, как подули холодные ветры, едва успели повернуть свои корабли в Обскую руку – стали реки. Зимовали у чуди белоглазой, народа тихого, покладистого и доброго. После зимовки поднялись по Оби до устья Иртыша, еще прошли сотню верст по Иртышу и стали ставить свою крепость с башнями да с пушками. А кругом безлюдье, первозданная тишина. А леса… Разве есть еще где-то леса прекраснее уссурийских!».[2] Да только вот очень холодно было там. Озноб и трясовица — в точности, как сказано в начертании. Однако повторили старообрядцы путь, Арием со дружиной «две тьмы» (20 тысячелетий) назад свершенный, как сказывает о том Велесова книга. Подробней см. в статье Виктора Медикова «Князь Арий Гиперборейский«.
6. «…от находа зверей ядовитых, от врагов…» Это в основном про то время когда старообрядцы-первопроходцы «зимовали у чуди белоглазой». Да, был тогда наход этих самых «ядовитых зверей». (Уральский полоз ползет и по сей день там встречается, хоть и редко. Брюхом источает яд – проползет и трава никнет по его следу.) И в летописях о том осталось. Но это тема отдельная. «Врагами» ж были хунхузы. По Иртышу они уже и в семнадцатом веке орудовали вовсю, поскольку Иртыш в Китай утекает. Православные старообрядцы геройски с этими хунхузами бились и не только себя самих, но и чудь от них защищали. Очень сократилось число разбойников по Иртышу и Оби тогда.
7. «…и мшиц, и комаров…» О мшицах (мошках) и комарах весьма красноречиво свидетельствует словарь восемнадцатого века: «Есть же вреждающее в Соловецком острове по телеси. Си есть: мшицы, комары и слепни». На Соловецком острове в 1429 году иноки Савватий и Герман основали обитель, трое суток плыли туда в лодочке по морю от Валаама, за припасами же для обители плавали в той же лодочке по реке Выг. И вот, Соловецкий монастырь семь лет воевал против никониан, выдерживали стены его осаду (знаменитое Соловецкое Сидение 1668-1676). Тоже были те осаждающие, можно сказать, «звери ядовитые» и «враги» пострашней хунхузов. А у хунхузов, кстати, аж казнь такая была в тех местах, скажем, возвращаясь к теме «мшиц и комаров». Вот раздевали просто и привязывали к деревьям – и за полчаса мшицы и комары выпивали кровь. Но вот что выяснилось в последующие века: списки с иконы Прибавление Ума хранят от этого гнуса, и даже по сие время: где скиты сохранились уссурийских старообрядцев нет кровососов, хоть на соседних полянах гнус маревом стоит в воздухе. Подобное наблюдалось и в знаменитом Комаровском ските, к руинам которого старообрядцы до сих пор совершают паломничества.
Вот это благословил Бог сказать про надпись. Насчет остального же будет, надеюсь, третья статья, посвященная сей великой иконе.
Tags: Богородица, икона - Прибавление ума, остров - Соловки, племя - чудь, пращур - Арий, река - Выг, река - Иртыш, река - Обь
Trackback from your site.